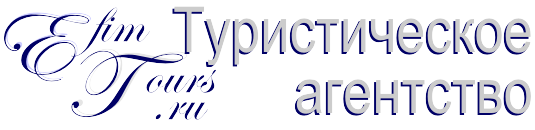|
            |
|
Новости туризма
Мерцающие звезды над… вулканом
Нам круизы эти позабыть нельзя
Горящие туры
ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Летят перелетные птицы
Туристические маршруты
|
Михалинские вечера (рассказы)
Абисселе глик (Немножко счастья) Картинки из нашей жизни
Время, ты можешь все? Можешь! Тогда перенеси меня в детские далекие годы. Перенеси! Что тебе стоит? Ты же всесильно! Всевластно! Я прошу: перенеси меня, хотя бы на пять минут в прежний Михалин! … Закрываю глаза и вижу отца, застывшего в ожидании возле старенького приемника. И вдруг: «Авейну, шалом алейхем, Авейну, шалом алейхем, Эвейну, шалом алейхем…», - так начинается ежедневная передача радиостанции «Коль Израэль» - «Голос Израиля» из далекого Тель-Авива. Отец подскакивает с дивана, поднимает вверх кулак, его лицо выражает восторг, радость и победу над жизнью, которой он живет сегодня, которой мы все живем сегодня. - Тише, тише, соседи услышат! - беспокоится мать. - Кого бояться? - отец открывает настежь окно, и на улицу вырывается: «Авейну, шалом алейхем, Авейну, шалом алейхем…»! Мы чувствуем: сейчас наш отец не в туманном Михалине, а в солнечном Израиле, ради встречи с которым заставлял себя жить даже тогда, когда осколки подходили к сердцу. Заканчивается песня, Батя (так мы зовем отца) пододвигает табуретку поближе к приемнику и спрашивает у меня: «Ты знаешь, какая у меня самая главная мечта»? - Знаю, знаю, уехать в Израиль. - И не только уехать, но и увидеть первого израильского солдата, чтобы поклониться ему. - За что? - За то, что он - израильский солдат! - А ты бы пошел в Израильскую армию? - Я? Не пошел бы - побежал! Смотрит на меня печальным взглядом, гладит левой рукой правую руку, оставшуюся в глубоких шрамах после войны, и говорит: «Мне нужно было родиться раньше, чтобы до войны уехать, или позже, чтобы было время там пожить». Где там, мы хорошо знаем… А самый младший из детей забирается к маме на колени. Рядом еще четверо ее сыновей. В печурке горят дрова: вся наша хата наполняется блаженством. Отец влюбленно осматривает свою семью, останавливает взгляд на самом младшем сыне Лене, который прилип к матери, и говорит: «Фейгеле, фейгеле, ты наш»! (Птенчик - на идиш). Мы небольшие знатоки идиш, но что такое «Фейгеле» и к кому оно обращено, хорошо знаем. Конечно же, к нашему малышу - Ленечке, которого еще называем «Смуглянкой…» из–за смуглого цвета лица. Ой, как он купается в родительской и братской любви! Ленины глазки - черные и бархатные - сверкают от удовольствия! Неужели, награждая его нашей любовью, Господь знал, что заберет младшего брата первым из всех братьев? Сразу же за отцом… Но это будет через несколько десятилетий и в другой стране… А в тот вечер мама покачивает сына на руках и тихо напевает: «Хочется абисселе мазаль, хочется абисселе глик (хочется немножечко счастья), и дальше на русском: «Где бы его взять немножечко, хоть бы немножечко, а счастье пропало – и нет. И нет…». Мама пожала плечами, развела руками. Мол, нет! И нет… И вдруг… стук каблуков кирзовых сапог по полу. Это - Батя! Улыбнулся, провел пятерней по своей черной чуприне и… запел: «Крутится, вертится шар голубой, крутится вертится над головой, крутится вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть». И дальше: «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен! Вот эта улица, вот этот дом (показывает вокруг), вот эта барышня, что я влюблен». Подходит к матери и, опускаясь на колено, протягивает ей руку. Мы восторженно смотрим на наших родителей. И раньше мама часто пела. И отец подпевал или напевал вместе с ней. Но чтобы вот так, как на концерте - не было. Никогда не было! Да и больше никогда не будет. Очень нелегкой тогда была жизнь. Чтобы как-то ее украсить, видимо, и пришел к нам тот необычный вечер. …В печке выгорают дрова, в окна влетает холодный осенний ветер. Гриша разглядывает распухшие от холода руки. Мать думает о том, что бульбу надо меньше расходовать, чтобы оставить ее на посев. Яша готовится к городской олимпиаде по математике. Сергей рисует деда, который, опершись на палочку, стоит возле дверей своей спальни. Самый младший и самый хозяйский Леня - расставляет чашки на столе. Батя возвращается к приемнику, который шипит, ничего не ловит и говорит: «Черная сотня». Мы не знаем, к кому он обращается, не понимаем, что такое «черная сотня», да и не зачем. Мать выносит из кухни свежие, духмяные булочки. Сделала нам сюрприз: выпекла, когда дома никого не было. Увидев их, отец выскакивает в сад, заносит в дом несколько веточек смородины. - Самая лучшая заварка, - говорит он. Никто не спорит. Какой чай? Вишневый чай хотите? Возле кустов смородины растут вишневые деревья. Хотите сливовый, грушевый, рябиновый? Пожалуйста! Все эти деревья растут в нашем саду. Пьем чай в прикуску с белыми кусочками сахара. - Где же нам взять абисселе глик? - красиво улыбается мама, оглядывая всех. - В Израиле! Здесь не будет ни абисселе мазаль, ни абисселе глик, - обрывает ее отец. За окном рано наступившей осени – 1965 год. До отъезда в Израиль оставалось ровно… двадцать пять лет! Только сейчас я понимаю: именно тогда у нас было полное счастье, когда все были вместе! И все - живы! Время, время! Ну что тебе стоит? Что?.. Верни меня, верни хотя бы на пять минут в прежний Михалин. А в мое израильское окно светит луна 2017 года…
Тум-балалайка
Кружатся снежинки. И мы кружимся. Под небом! Морозным! Новогодним! Я сегодня приехал в Мстиславль, где живут мамины родственники и мои двоюродные братья и сестры. Одни из них - меня старше, другие - младше. Разница в возрасте как-то нас отдаляет. - Идем к Юзику в гости, - подморгнула мне моя мама. Я знаю, что совсем рядом живет ее двоюродный брат, которого во время войны спасла белорусская девушка Маша. Что потом он женился на своей спасительнице. Что они дружат с мамиными родными, но раньше как-то не доводилось встречаться. То одно, то другое, а чаще всего, когда мама приезжала на два-три дня в Мстиславль, ей не хватало времени даже навестить своих двух родных сестер и брата. Уже нужно было уезжать домой, где с нетерпением смотрели в окошко ее младшие сыновья. И отец, уставший от работы по домашнему хозяйству. Может быть, поэтому мы никогда не встречались. И вдруг: идем! Круглолицая Маша, белорусская жена моего двоюродного дяди, целуется со мной, с мамой, усаживает нас за стол. Возле меня - такая же круглолицая девчонка, как и ее мама, но с густыми бровями, как у моего дяди Юзика. Она моя троюродная сестра? Моя ровесница? Никогда раньше я ее не видел! А мне - шестнадцать лет! Наши коленки внезапно прикоснулись, а плечики прижались. Горячая волна вдруг ударяет мне в висок. Я никогда раньше не обнимал, не целовал девушек, они меня просто не притягивали к себе. - Пойдем на улицу? - подталкивает меня Ольга, когда уже все попробовали за столом. На улице кружатся и кружатся снежинки. И мы, взявшись за руки, тоже кружимся. Наши лица возле друг друга. Я чувствую ее прерывистое дыхание, вижу горящие глаза. Забываю о том, что она моя какая-то далекая сестра, целую ее в теплые сладкие губы. Ольга оторопела от моей наглости, но сбрасывает с себя шапку–ушанку, которая кубарем летит в сугроб. Ее светлые волосы, как снег, который залепил деревья, дома, развеваются на ветру. Узорчатые снежинки садятся на ее красивое лицо, голубые глаза и длинные ресницы. Мы кружимся, кружимся вместе со звездочками-снежинками и… целуемся опять. Не знаю, сколько прошло времени? Вечность, так нам показалось! Но когда вернулись в дом, я вдруг услышал незнакомую мелодию и слова диктора: «Новый год в Израиле». Под песню «Тум-бала, тум- балайка» показывали по телевизору людей на израильских улицах. Все куда-то спешили. Люди, как люди! Дома, как дома! Но это же был совсем иной мир - мир загадочного Израиля, о котором мы всегда говорили дома. А какая мелодия? Яркая, зазывная, веселая! Как раз под Новый год! Мы снова выскакиваем на улицу, напеваем запомнившие нам слова: «Тум-балалайка, тум-балалайка, тум-балала…». И… опять кружимся, кружимся со снежным хороводом, со своей юностью, со своим первым чувством… С того памятного новогоднего вечера больше я эту песню в Белоруссии никогда не слышал. А сейчас в Израиле слушаю! Часто слушаю: «Тум- бала, тум-бала, тум-бала, тум-балалайка. Шпиль балалайка, тум-балала, шпиль …» Про балалайку все понятно? А шпиль - на идиш - «играй»… Словно вижу танец звездных снежинок. Они кружатся под «тум- бала-лайку…». Кружатся с моей троюродной сестрой - белорусской по матери, еврейкой по отцу. Ольга! Где ты? В России? Пригласи меня в гости под Новый год. Я обязательно приеду с песней «Тум-балалайка»! Ты ее помнишь? И мы… потанцуем, как тогда! Станцуем месте со снежинками. Когда нам было по шестнадцать! По шестнадцать… По шестнадцать л-е-т.
Сапожник Шломо Вы помните сапожника Шломо? А его жену Розу? Не помните? Тогда я напомню. В Михалине возле железной диковинной колонки, которую оставили после себя немцы, стоял квадратный домик без коридора. Вот в этом домике - в самом центре Михалина и жил Шломо. Шломо, так Шломо! Только имя какое-то диковинное. Эли, Малах, Ела, Зяма_- еще куда ни шло, а то Шломо? - Шломо - это от слова «шлимазл»? - спрашиваю у домашних (в переводе с идиш, несчастный). Отец на меня посмотрел, словно что-то проглотил. Дед не перестает крутить пуговицу на рубашке - то в одну сторону, то - во вторую. - Д-а- а, познания у тебя точно, как у твоих друзей, которые кричат вслед Шлеме: «Шлимазл, шлимазл…». Только им простительно - они из другого народа. Но ты должен знать, - отец посмотрел на меня, потом на деда, который, тяжело вздыхая, сел на скамейку, - ты обязан знать, что Шломо - был третьим еврейским царем. Он же и великий, мудрый царь Соломон. Я тихо присвистнул: изучая в школе историю древнего Египта, я даже не подозревал, что рядом с ним было другое не менее древнее государство -еврейское. Я, школьник-подросток, знал то, что положено знать. И не больше. Родители нас тоже особенно не пичкали дополнительной информацией. Отец только что вернулся после работы и совсем не был заинтересован в долгой лекции. Только сказал: «У каждого народа своя история. Придет время, и ты все узнаешь». Мне не терпелось. - Так ты говоришь, что нашего соседа, может быть, назвали в честь еврейского царя? Может быть, и тебя назвали в честь какого-то царя. Ну даете? Отец улыбнулся и повернулся к деду Залману. - Папа, что ты скажешь? Мне уже стало интересно. Дед не спешил с ответом. Он больше нам рассказывал о тех детях, которых расстреляли, а что говорить об отце? Все известно - в одном доме живем. Дед поправил картуз на голове, провел рукой по бороде и выдал: «В прежние времена евреи не давали своим детям имена просто так. Только в честь кого-то. Твоего отца вместе со своей женой я назвал Давидом. Такое имя носил отец Соломона - второй царь Израиля, который построил Иерусалим. Твоя бабушка, моя жена, была названа в честь праматери еврейского народа Сары. … Вечер опустился над Михалином, мои младшие братья пошли купаться на озеро после пыльного дня, а я, слушая то отца, то деда, возвращался из сегодняшнего дня в прошлое и наоборот. Назавтра, когда бедный Шломо пошел с сеточкой за хлебом и его снова атаковала местная ребята криками: «Шлема-шлимазл, Шлема - шлимазл…», я пытался их остановить, рассказать значение слова «Шломо». - Шлема - царь, меня поймай. Шлема - царь, меня поймай, - скакала перед ним местечковая ребятня. Точно так же они шутили и с русскими, белорусами, которые были уже в годах. Назавтра я зашел к сапожнику Шломо: хотелось с ним поговорить. Согнувшись, он колдовал над какой-то парой ботинок. Ничего царского в его облике я не увидел. Но он посмотрел тепло на меня из-под очков. Перевел взгляд на мои босые ноги. Улыбнулся: «В детстве я тоже бегал босиком по местечку. А сейчас ноги не хотят ходить. Но руки пока слушаются. Одному нужно подметку подбить, другому - новую заплатку пришить. Вот так и проходит день за днем. - Встал со стула, оперся о стенку: «Роза, ты где? У нас гости! Кто? Внук Залман-юде». Роза улыбнулась точно, как моя бабушка Соня, потрепала меня по голове и вручила большое красное яблоко. - Что-то Батя шутит. Не могли его назвать в честь царя. Он же обычный старый сапожник, - думаю я и, взяв колесо с проволокой, которое мы называли водилой, помчался по местечку. Прошла еще одна осень, еще одно лето. Потом еще пару раз прокрутился год. На крылечке сидит Роза. Ее седые волосы разбросаны, взгляд пустой, отстраненный. - Все проходит, все уходят, все проходит, все уходит, - увидев меня, грустно качает головой. Я знаю: Шломо умер! Он уже больше не улыбнется мне поверх своих очков, не пошутит. А может, действительно его назвали в честь царя? В его облике было что-то святое, чистое. - Ой-вей, ой–вей, - стонет Роза. А у меня в руках сетка яблок - красных, крупных, которые я нарвал в колхозном саду и сейчас протягиваю Розе. Над местечком опускается ночь. Первая ночь в Михалине без «царя Шломо».
Тейглах от Кели - Зэ (смотри, идиш), кто к нам пришел? На лице улыбчивой женщины - неописуемая радость. Она широко разводит свои руки. Мол, проходи, проходи и мне говорит: «Дядя тебя ждет»! Во второй комнате, среди подушек сидит круглолицый человек. Это - Файфа, родной брат моего деда Залмана. Единственный из двенадцати его братьев и сестер, который живет рядом с ним после войны. Всегда, когда я приезжаю из Михалина в соседний город Мстиславль, я навещаю его. Все-таки город! Не местечко. Да и не могу не выполнить просьбу своего деда: навестить его родного младшего брата. Первый раз зашел настороженно, а увидел теплый прием, во второй раз ноги сами побежали. И на этот раз после громких восклицаний «Зэ», радостной улыбки Кели, поцелуев Файвы сижу у Кели на маленькой кухоньке. Почему у Кели? Да потому, что Файва уже забыл, когда выходил со своей комнаты. - Кроватный человек твой дядя, - сообщает мне о нем Келя, - нет, нет я не обвиняю его. Войну обвиняю. Старые раны обострились, да так, что он стал неподвижным. - Поднимает палец. - И уже долгое время. Но нам хорошо. Чтобы я одна делала? А так: «Файва, ты как? - спрашиваю у него из кухни. - Гут, гут, Келя, - слышу в ответ. - Укладываюсь спать, слышу: «А гуте нахт, Келечка!» А что мне еще надо? Только доброе слово. Слава Богу, слава Богу, - чтобы хуже только не было. Я знаю, когда Файва вернулся после войны в Мстиславль, своей довоенной жены он уже не нашел. Расстреляли ее вместе с другими евреями. Сошелся с Келей. Высокая, энергичная – она не могла его не очаровать. А когда заболел, каждое утро молился Богу, что встретил ее. Есть еще два взрослых сына, но они как-то не прижились с Келей. Кто прав, кто виноват, только у сыновей - жизнь молодая, не будут же они ему простыни менять. -Да ты ешь, ешь! Тейглах у меня такой, что объедешь всю Белоруссию, весь Советский Союз, нигде лучше не найдешь, - говорит мне жена моего двоюродного дедушки, или, как она называет его, дяди. А тейглах действительно отменный! Даже тает во рту. А какая вкуснятина? На что моя мама - мастерица, но такой тейглах, как у Кели, она ни разу не выпекала. Булки-да! И какие булки! В магазине такие не найдешь! Думаю, мама выпекла бы не хуже, чем Келя, только разве накормишь семью из семи человек сладостями? Да и где взять столько муки, меда, растительного масла, яиц, миндаля, грецких орехов для их приготовления? -Это я сразу понял, как только Келя стала мне рассказывать, из чего она делает свой тейглах. Посмотрела по сторонам, будто боясь, что кто-то услышит: - А ты знаешь, я потихоньку его продаю на базаре. Милиция меня с одного места сгонит, я на втором примощусь. Сгонят со второго, я на - третье. Да и люди, которые один раз попробуют мой теглах, за ним ко мне домой приходят. Только прошу, чтобы никому не говорили. - Запрещено? - Запрещено. Мол, не в фабричных условиях, не по закону. Скажи, а как нам жить? Пенсия – маленькая. Ты знаешь, сколько чего нужно покупать для твоего дяди? Нет, я не наговариваю, но кто мне даст гельд (деньги) просто так? А за мой тейглах еще голубушкой называют. Меня уложили спать в маленькой спаленке. На кухоньке до полуночи горел свет. Если вы думаете, что Келя в одиночестве пила чай, или гадала на картах, то вы ошибаетесь! Ой, как ошибаетесь. Келя выполняла «правительственный» заказ, как она сама шутливо заявила. В субботу ее соседка выдает дочь замуж. Пришла к ней и говорит: -Келя, не буду же я дорогих гостей бульбой с мясом потчевать. Придумай что-нибудь такое необычное. - Ну я и придумала! Напекла орешки из теста в меду, шарики в меду. Чтобы они были более хрустящие, добавила в них немного водки, - хитро улыбается Келя. - Чтобы сразу и выпили, и закусили? - Весь в дядю! Вы все Златкины такие? - хлопает в ладони. А дядя из спальни одобрительно смеется. Скажу больше: Келю пригласили на свадьбу вместе с ее сладостями. И я там был: вино, водку пил! - Все это, - наклонился ко мне подвыпивший сосед и обвел рукой поднос со сладостями, - еврейские штучки. Но о-очень вкусные штучки. - Определив, что я не из его белорусской родни, погрозил пальцем: «А ты сам того, не из этих «штучек»? - И довольно улыбаясь, потянулся за следующей порцией Келиных сладостей. Вот так жила и моя тетя Келя, угощая мстиславльский народ – русских, белорусов, евреев своими изделиями. Кому продавала на рынке, кому готовила дома по личному заказу. Провожая меня, передала для мамы целый пакет угощений. Постукивая резиновыми сапогами нога об ногу, до тех пор она стояла на остановке, пока не подошел автобус. В Михалине мой дед Залман меня встретил первым. Не зря! Догадывался: если его внуки налетят на передачу, ему останутся только одни крошки. А мы не знали с чего начинать? С тейглах или с айнгемахц (вареная редька в меду), иди с имберлех (морковь в сахаре), или с лекеха, струделя, рулета с маком?.. - Гор, гор! (все, все), - наконец сказала мать, оттаскивая нас от праздничного стола, - оставьте на завтра. А сейчас я вам еще кое, о чем расскажу! До Михалина тогда я не довез …гоменташи (булочки с маком). Когда в купе вагона раскрыл пакет с ними, все на них жадно посмотрели. Ну я и угостил каждого, не преминул сказать, что это еврейские сладости. Мои попутчики – белорусы - уплетали их аппетитно вместе со мной. А один из них, когда закончились мои булочки, раскрыл свою сумку. Догадайтесь, что там было? Да-да, драники с мясом. Теперь, когда я приезжаю в Минск, спешу в свое любимое кафе возле ЦУМа. Там такие драники! А когда покупаю в Израиле гоменташи, всегда вспоминаю милую Кели и Файву - единственного из двенадцати родных братьев и сестер моего деда Залмана, кого мне довелось увидеть.
|
НАШ АДРЕС: Ашдод, Рогозин 3, оф. 12 yafim31@gotec.co.il Тел: 077-7525143 Сот: 050-5384088 972-50-5384088 0505384088 - Ашдод, Ган-Явне, и др. города 054-2454662 - Ашкелон Пришлите Ваши данные и мы с Вами свяжемся
|
 |
 |
|